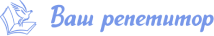Как известно, каждый влюблённый с удовольствием и без конца рассказывал бы во всех деталях о предмете своей страсти, не удерживай его страх потери и представления о пристойности. С любимым делом в этом смысле легче: можно без опасений дать себе волю. Не знаю, оставлю ли я в моей науке сколько-нибудь различимый след, но я её люблю и хочу рассказать о ней всем, кто захочет это прочесть.
Я заканчивал исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: должен знать и, надеюсь, знаю историю фундаментально. Но заканчивал я его по кафедре этнологии: выходит, я — этнолог. Что это такое? Обычно мало кто знает; поначалу я этому от души удивлялся, а потом привык. Есть очень близкие варианты: этнография и антропология. С этим уже чуть полегче, хоть и ненамного. Всё же кое-кто знает, что это — всё, что связано с народами, культурами и их взаимоотношениями. Дальше собеседник обычно радостно выдаёт примерно такой ряд: «Мумия» и «Мумия возвращается» (или как там?..), гаремы, галлюциногенные грибы, вуду с куклами и зомби... Тут остаётся что-то одно из двух: или, улыбаясь, поддакивать и кивать головой, — или быть готовым к обстоятельному толковищу, в котором твой язык устанет раньше головы. Правда, это в большинстве случаев не грозит: выносливость слушателя иссякнет ещё раньше. Так что текст для чтения в этом отношении выигрышнее: читатель обычно бывает покрепче. Вот я и вздумал написать хотя бы немногое из того, о чём всё никак не удаётся договорить.
В самом начале хочу пересказать одну маленькую историю. Вспоминать её я не могу без глубокого душевного волнения и восхищения: лично для меня в ней содержится ответ на вопрос, каким я должен быть, если я — этнолог, и к чему должен стремиться, чему соответствовать. Вот она.
В 1871 году 25-летний Николай Николаевич Миклухо-Маклай предпринял экспедицию на Новую Гвинею, население которой тогда было совершенно не изучено. Этот колоссальный остров представлял собой огромное «белое пятно»: была более-менее известна и нанесена на карты береговая линия, а внутри неё находилось Неведомое, полностью избежавшее на тот момент контакта с цивилизацией. Достаточно сказать, что и сегодня во внутренних областях Новой Гвинеи существует ритуальное людоедство. И вот туда, на Новую Гвинею, Маклай направился, — как раз затем, чтобы увидеть и изучить тех, кто сохранился в состоянии «полной нетронутости».
Через несколько дней после своей высадки на берег он собрался в ближайшую деревню, познакомиться с папуасами поближе. Подумав, решил оставить оружие дома, в хижине, но не забыл взять с собой записную книжку и карандаш. Войдя в деревню, он был в тот же миг окружён толпой воинственно настроенных папуасов, угрожающе размахивающих копьями, — явно не с дружескими намерениями. Маклай писал позднее, что был сам поражён своей реакцией: он неожиданно лёг на землю и… мгновенно уснул, — то ли от психического перенапряжения, то ли ещё от чего. «Но если уж суждено быть убитым, то всё равно, будет ли это стоя, сидя, лёжа на циновке или же во сне. Далее я подумал, что если бы пришлось умирать, то сознание, что при этом 2, 3 или даже 6 диких также поплатились жизнью, было бы весьма небольшим удовольствием. Был снова доволен, что не взял с собою револьвера» [1]. Сказать, что папуасы были изумлены и потрясены, — значит ничего не сказать. Он нас не боится: он засыпает, не обращая внимания на наши копья! Да он вообще не человек! Он — бог: наверное, он к нам с Луны спустился! Проснувшись через несколько часов, Маклай увидел, что вооружённой толпы нет: все разошлись, осталось только несколько наиболее любознательных, которым очень хотелось не упустить момент и посмотреть, как бог будет просыпаться...
От этой картины — антрополог, мирно спящий в кольце воинственно кричащих туземцев, — веет такой идиллией, таким дивным XIX веком, что остаётся только позавидовать: никто из нас такого не увидит уже никогда.
Мне довелось как-то услышать от одного из моих университетских учителей, что эта история — легенда, сочинённая самим же Маклаем. Что он любил сочинять про самого себя легенды и распускать их, и это — одна из них. Что ж, пусть хотя бы и так: она настолько красива, что в неё невозможно не поверить. Да и всей своей короткой жизнью (он прожил всего 42 года), всей своей стилистикой полевых исследований и общения с теми, кого ему довелось изучать, Маклай доказал: с кем другим, а с ним такое вполне могло случиться. Так было, в это верится.
Так что же такое этнология? Она и впрямь представляет собой «контактную зону» на стыке стольких разных областей научного и околонаучного знания, что обычный средний не-этнолог поневоле и с законным основанием задаётся таким вопросом. Кто хочет, может попробовать поостанавливать на улице прохожих: каждый сумеет ответить на вопрос, что такое история, география, биология, философия, психология, культурология, социология, политология (всё это — то, на стыке чего существует этнология), — но на вопрос об этнологии вам кое-как ответит один из десятка, в лучшем случае – двое. И тут хотелось бы вновь привести одну историю. На сей раз — смешную, хоть и поучительную.
Летом 2003-го собирался я в Сибирь, в экспедицию. И за несколько дней до моего отъезда беседуем мы на кафедре с моим научным руководителем обо всём таком, что мне предстоит. Я и говорю:
— А неплохо бы, знаете, снабдить меня верительной грамотой, что, мол, направляется такой-то туда-то с научными целями, ну и так далее, — как вы думаете?
Правильно, говорит. Мало ли, местная милиция или ещё кто. Так что давайте, сочиняйте, мол, потом наберём, распечатаем, подпишем и университетскую печать шлёпнем, чтобы всё честь по чести.
И я начинаю так это за непринуждённым разговором сочинять и набрасывать на бумажке. Закончил, прервал разговор, прочёл:
— «… направляется… с целью этнологического исследования туда-то и туда-то… просьба оказывать посильное содействие…»
— Стоп, — говорит, — а вот это, насчёт этнологического, уберите и замените на более понятное, поняли? Типа: «для изучения культуры и быта местного населения». Чем понятнее, тем лучше, ясно?
— Да почему же, NN? Ведь наоборот, чем непонятнее, тем лучше: больше простора для свободы действий!
— Не всегда, знаете: а вот не хотите ли случай из моей собственной практики.
И вот что я услышал.
«Путешествуем это мы по Эвенкии в одна тысяча девятьсот лохматом году, ещё при коммунизме. Приходим в село, я первым делом направляюсь в сельсовет: представиться, познакомиться и всё такое. Захожу: сидит за столом председатель — здоровенный мужик, эвенк, классическая монголоидная физиономия — как из морёного дуба вырублена… Я здороваюсь и говорю: так, мол, и так, из Москвы, из МГУ, этнологическая экспедиция, вынимаю бумажки… Он сидит и молчит, будто ничего не было. Ну, я тоже помолчал минутку, думаю: может, в самом деле не понял чего, не расслышал. И повторяю всё ещё раз, практически слово в слово. Эффект — тот же самый: сидит никак не реагируя, и физиономия — тоже абсолютно неподвижная, но при этом мрачнее тучи! Я уже чувствую, что у меня ум за разум заходит: что такое, в самом деле, — мистика какая-то… Вроде, не пил, — сплю, что ли?.. И решил всё же в третий раз попробовать. Но заезжаю чуть с другой стороны: вместо этнологической экспедиции сказал насчёт изучения жизни местного населения. И тут он вдруг резко оживает и спрашивает:
— Постой, так вы не по комарам?
Да нет, говорю, какие комары, мы людьми интересуемся. И тут — волшебная перемена: он, осветившись улыбкой, вскакивает из-за стола, тянет свою лапищу здороваться, хлопает по плечу и чуть ли не обниматься лезет со словами:
— Добро пожаловать, дорогой, будьте гостями, живите сколько хотите, смотрите, изучайте, всё для вас сделаем, покажем, расскажем!.. — ну, и дальше в том же духе.
Я, придя в себя, потребовал, естественно, объяснений. И вот что услышал. Оказывается, за два года до того были у них летом московские энтомологи, разрабатывавшие новый репеллент: привезли с собой опытный образец, испытать в полевых условиях. Нашли места массового комариного выплода и побрызгали. На следующее лето комаров стало ощутимо меньше. И вроде порадоваться надо: они в тех местах житья никому не дают. Но убавилось не только комаров: в реке рыбы не стало, потому что не стало комариных личинок, которых мальки едят! А местные живут тайгой да рекой, без рыбы никак… Короче, всё село заточило на всех энтомологов на свете большой зуб. А ещё через год мы приезжаем, я захожу в сельсовет и радостно рапортую: мы этнологи, встречайте! — ну, председатель обознался малость: ага, одна компания, мало те напакостили! Бывает…
Так что сделайте-ка поправочку в своей верительной грамоте, а то понять могут всяко».
Итак, как же мы можем сформулировать основную проблему современной этнологии, зная, что этнос (греч.) — это народ, племя, толпа [2]? Сделать это очень просто. Не прибегая ни к каким специальным терминам, на обычном бытовом языке сформулируем её так:
«За десятилетие папуас может полностью отойти от традиционного представления о космосе, принятого в его племени, пройдя при этом несколько этапов. Так, миссионер может убедить его, что источником могущества белого человека является Библия... Через пять лет папуас уже голосует за кандидата в депутаты палаты представителей, становится совладельцем грузовика и узнаёт о высадке человека на Луну, которую он ещё десять лет тому назад воспринимал как тотемное божество. Остаётся загадкой, как человек может справиться со столь хаотичными сдвигами в области сознания и не сойти при этом с ума?» [3].
Вот, по сути, вопрос, на который должна ответить наука этнология. Будет найден ответ на него — отыщутся ответы и на многие другие вопросы.
Если всё же попытаться выделить основные проблемные поля современной этнологии, то получится, например, такой перечень:
- что представляет собой этническая картина мира (иначе говоря: какова география сегодняшнего расселения этносов);
- каковы механизмы её изменения (продолжая сказанное в скобках: как она, эта география, изменялась, изменяется и будет изменяться; здесь, быть может, речь идёт и о попытке выделить и сформулировать некий универсальный закон, который определял бы такие изменения не только в прошлом, но и в хотя бы недалёком будущем, то есть давал бы возможность хотя бы чуть-чуть спрогнозировать, «забежать вперёд»);
- как носитель той или иной культуры адаптируется к изменениям, происходящим в мире («почему-тот-самый-папуас-не-сходит-с-ума»);
- как к этим изменениям адаптируется общество, социум, в котором он живёт («как-не-сходит-с-ума-всё-папуасское-общество»: он делается в нём полным изгоем, или же оно само тоже адаптируется так, чтобы его по крайней мере терпеть, и каким именно образом это происходит);
- как человек воспринимает окружающий мир;
- каковы пределы гибкости и подвижности этнической традиции;
- что в сознании членов этноса остаётся неизменным в любых обстоятельствах, что отбрасывается, что видоизменяется и как;
- есть ли в этнической культуре неподвижные участки, «жёсткие стержни», которые удерживают всю структуру, предохраняя её от распада в периоды бурных общественных процессов; и т.п.
Поток этих проблемных вопросов в поле зрения этнологии всё нарастает. Определения, даваемые науке этнологии, не успевают их учитывать. Поэтому, определяя этнологию, можно сказать: она изучает все проблемы, связанные с жизнью этноса. Попробуем перечислить некоторые из этих проблем, от более традиционных к менее традиционным, новым, отнесённым к этнологии недавно:
- материальная культура народов;
- их ритуалы, обычаи, верования;
- их системы родства;
- их социальная и политическая структура (семейные отношения, отношения власти и т.п.);
- поведенческие системы, присущие разным народам;
- их системы воспитания;
- сравнивание комплекса культурных черт различных народов;
- динамика изменений культурных черт того или иного народа;
- психологические особенности различных народов (этноментальности);
- их системы жизнеобеспечения, адаптации к природной среде (этноэкология);
- сравнение картин мира различных этносов;
- особенности межкультурных контактов;
- этногенез;
- причины возникновения и распада этносов;
- расселение народов;
- демографические процессы в этносах;
- экономическое поведение членов того или иного этноса;
- этнолингвистика;
- становление и развитие традиций;
- проблемы этничности, тесно связанные с идентификацией и самоидентификацией; и т.п.
Этот список неполон, однако и его вполне достаточно, чтобы бросилось в глаза: проблемное поле этнологии невероятно широко. Многое из перечисленного изучается и другими науками, так что их сферы как бы пересекаются. В особенности же это относится к антропологии, социологии, культурологии, политологии и этнографии.
Попробую сказать вкратце о каждом из пересечений этнологии с этими науками.
Этнология и антропология. (Антропология — буквально и дословно «человековедение»). Практически никакой установившейся грани между ними нет, их названия часто используются как взаимозаменяемые. И всё-таки это не синонимы. Этнология шире антропологии. В поле зрения антропологии никогда не попадали проблемы этногенеза, этничности, расселения народов и демографических процессов.
Этнология и социология. Этнология и культурология. Этнология занимается проблематикой этих наук. Однако, если их интересуют общесоциологические, общекультурные, общеэкономические закономерности, а поправки на специфику, самобытность и уникальность каждого конкретного этноса они не делают, то этнология учитывает всё это. Так, социология констатирует, что этническая община мигрантов в условиях мегаполиса находит себе некую социопрофессиональную нишу и занимает её, — и на этой констатации социология останавливается. Этнология же интересуется, почему, например, именно азербайджанцы в Москве нашли себе специализацию в виде именно рыночной торговли (организации и контроля над нею), а именно украинцев часто можно встретить среди именно водителей столичного общественного транспорта, почему именно айсоры (ашуры) ещё лет сорок назад занимались в Москве исключительно именно ремонтом и чисткой обуви, а именно корейцы сосредоточили в своих руках именно зеленную торговлю в мегаполисах США.
Что же до культурологии, то её у нас очень часто путают с искусствоведением и историей искусства: выходят книги, в том числе учебники, под названием «Культурология», а внутри о культурологии — в лучшем случае пара слов, а всё остальное — о живописи да о скульптуре. Но сводить культуру только к искусству — глубочайшее заблуждение (хотя и оно является её очень малой частью): культура — это вообще всё, что делают люди, притом, как правило, неосознанно. Это — паутина «притянутых за волосы» на первый взгляд смыслов, кодов и символов, которые люди сами для себя изобрели и продолжают изобретать, притом забыв об их изначальном значении и соблюдая их «по инерции», и сами же, запутавшись в этой паутине, не могут из неё выбраться и даже представить себе, что можно делать как-то иначе, пока не увидят другую культуру, в которой делается иначе. Это — способ (свой уникальный в каждой конкретной культуре) жить, чувствовать, мыслить, верить. Почему, к примеру, живому человеку у нас полагается дарить только нечётное количество цветов, а мёртвому — только чётное? Почему покойника можно нести только вперёд ногами, а живого — вперёд головой? Почему ещё лет тридцать назад жестом сдачи на милость победителя были поднятые вверх руки, но буквально у нас на глазах «руки вверх!» начинают постепенно заменяться на «руки за голову!»? Почему у нас женщины подводят глаза так, чтобы придать им раскосость, а среди женщин Юго-Восточной Азии периодически вспыхивает повальное увлечение косметическими операциями по удалению их природной раскосости? Как бороться с жестокими и уродливыми ритуалами в солдатской казарме и тюремной камере-«малолетке»? Почему публично произнесённые выражения вроде «замучаетесь пыль глотать» или «приезжайте к нам и вам сделают такое обрезание, что у вас уже ничего больше не вырастет», которые в любой западной стране поставили бы крест на государственном лидере, у нас в России срабатывают на рост его популярности? Ответы на эти и ещё очень-очень многие вопросы пытается искать культурология, потому что всё это — тоже культура. Но культурологии совершенно всё равно, чем заниматься: повседневной жизнью современной подмосковной деревни, бытом советского рабочего или традиционной культурой индейцев навахо. Этнология же делает куда больший упор на изучение именно этнического в культуре. Этнолог чаще едет за тридевять земель изучать иной народ, чем культуролог: тому можно и вовсе безвылазно работать всю жизнь в своём родном городе, наблюдая и анализируя окружающее. Впрочем, грань между ними очень размыта: культурология — это почти двойник, почти клон этнологии (или наоборот, или вообще «на равных правах», поскольку установить тут первенство очень непросто). Так, в современной американской науке термин «этнос» малоупотребителен: вместо этого там часто пользуются термином «культура». Если об американском учёном известно, что он занимается культурной антропологией, то это означает, что по-нашему-то он этнолог: нюансы — микроскопические.
Одним словом, этнология, культурология и социология имеют пересечения в предмете своего исследования, но каждая изучает этот предмет со своей стороны, заимствуя при этом выводы и достижения друг друга.
Этнология и политология. Попытки описания характеров различных народов продолжаются от древности и по сей день. Такие описания недолго оставались просто занимательным чтением. Они систематизировались и уже в Римской империи сделались базой «искусства управления народами», служили пособием для властей по вечно актуальному национальному вопросу, а также по политике внешней, приграничной. Традиция такого целенаправленного изучения из соображений политических была доведена до совершенства в Византии, в частности в труде императора Константина VIII Порфирогенета (X в.) «Об управлении империей». Ведь внешняя политика Византии строилась, в первую очередь, как политика приграничная, а потому предполагала манипулирование племенами и народностями. Для этого считалось необходимым знать их психологические особенности и «модели поведения», как сказал бы современный этнолог. «Византийцы тщательно собирали и записывали сведения о варварских племенах. Они желали иметь точную информацию о нравах «варваров», об их военных силах, о торговых сношениях, об отношениях между ними, о междоусобиях, о влиятельных людях и возможности их подкупа. На основании этих тщательно собранных сведений строилась византийская дипломатия» [4]. Разумеется, поступала так не одна только Византия, и можно смело утверждать, что в таком качестве этнология использовалась на протяжении всей последующей истории. Научная школа исследований «национального характера» зародилась в середине XX века в непосредственно политических целях, однако не столь строго научные, более эмпирические разработки в этом направлении велись задолго до того [5]. Не случайно сегодняшний этнолог более других языков нуждается в знании именно английского: выстраивая систему косвенного управления на подвластных территориях, великая колониальная империя активно использовала данные научных исследований, выступая заказчиком по отношению к учёным, которые их проводили; в результате в мировой этнологической литературе накопился колоссальный англоязычный пласт, который намного превышает написанное на любом другом языке и продолжает разрастаться опережающими темпами.
Наличие в этнологии политологического и политического аспекта — обстоятельство далеко не безобидное. Так, лет примерно около тридцати пяти назад в США прогремел скандал вокруг так называемого проекта «Камелот». Кратко суть событий сводится к следующему. За несколько лет до того ряду американских антропологов, как их там традиционно принято именовать, было предложено участие в некоей программе, которое сводилось к продолжению ими своих исследований и разработок, но на несколько лучших, в смысле финансирования и оплаты, условиях. Попытаться поподробнее выяснить, от кого исходит это предложение и на кого, а главное, зачем предстоит работать, никто, видимо, не озаботился. Как оказалось впоследствии, заказчиком было ЦРУ, а результатом проекта стал ряд кровопролитных гражданских конфликтов и государственных переворотов в странах «третьего мира», которые привели к установлению жестоких военно-полицейских режимов, призванных, по мысли американских стратегов, противостоять экспансии коммунизма. Эти перевороты были разработаны и инспирированы с учётом результатов научных этносоциополитологических исследований, которыми и занимались в рамках проекта «Камелот» благородные исследователи, не ведавшие, что творят и к чему пролагают путь своим заказчикам. Одним из последствий всей этой истории в научно-академической среде стала серия скандальных разоблачений, покаяний и позорных изгнаний из профессиональной корпорации тех учёных, кто оказался, зачастую сам того не понимая, вымазан в грязи и крови. Многие, каясь, публично клялись никогда более не работать на правительство или связанные с правительством круги, избегать любых контактов с ними. Но было и по меньшей мере одно куда более доброе последствие: разработка и принятие в США кодекса профессиональной чести антрополога, нарушение которого, по идее, должно ставить крест на общении проштрафившегося учёного со своими коллегами и на его профессиональной карьере в целом. Это нечто сродни «Клятве Гиппократа» у врачей: у тех и у других — «прежде всего не навреди», у тех и у других — не будь ни судьёй, ни палачом тому, кем занимаешься, а стремись к его благу, не пытаясь причислить его к правым или виноватым, только у врачей речь идёт о страдающем больном, а у моих американских коллег — об изучаемых ими племенах и народах. Следует сказать, что в нашей стране никакого писаного документа, соответствующего американскому кодексу профессиональной чести антрополога, пока не существует, хотя потребность в нём всё более очевидна.
Дальше приходится говорить о вещах очень неприятных и даже страшноватых. Всем известно, что историю частенько называют проституткой на службе у политики. К стыду и великому сожалению, для этого есть основания: любая государственно-политическая власть всегда пытается прибавить себе легитимности и респектабельности путём искажения и передёргивания истории. Она даёт историкам заказы на обслуживание себя, власти, путём такого искажения, — а историки, как это ни стыдно, нередко на эти заказы «клюют». И их тоже можно пусть не оправдать, но понять: выбор-то очень непростой. Ведь на одном конце — «пряник» (и тут власть бывает очень изобретательна: кого не купишь деньгами, того можно купить, к примеру, перспективой безоблачной научной карьеры), а на другом — «кнут», и это вовсе не обязательно гибель в лагере: часто оказывается достаточно поставить человека перед угрозой отстранения от любимого дела, — а он же профессионал, он больше ничему в жизни не учился и ничего больше не умеет, а надо самому как-то жить, кормить семью… и т.д., недостающее вписать. Об этой коллизии очень кратко, точно и ёмко сказал Игорь Губерман:
Многие из тех, кто не продались, — это те, кого не покупали.
Кто-то из людей пишущих — не то учёный, не то журналист, — высказался однажды с похвальной честностью: вовсе не уверен, что я вообще не продаюсь, просто мне ещё ни разу в жизни не предлагали мою настоящую цену. Это стоит попытаться себе представить: когда в кабинет к полуголодному — в нашей сегодняшней стране! — учёному входит некто и предлагает ему такие деньги, которых он никогда и вообразить себе не мог, — легко ли отказаться? Или когда предлагаются не деньги, а то единственное место, положение, которому по своему профессиональному уровню соответствует этот учёный, но которого он сам, без связей, денег и тому подобного, никогда бы не достиг? «Ты сначала только чуть-чуть измени своей науке, а потом будешь всю жизнь продолжать честно ей служить, только имея для этого такие возможности, какие тебе до сих пор и не снились», — поди не клюнь на такое предложение! Единственным-то предательством дело, конечно, не ограничится, «одно маленькое» неизбежно потащит за собой цепь крупных, так что от служения научной истине ничего не останется, только вспомнить об этом в нужный момент и не поддаться соблазну — очень непросто.
Всё это говорилось сейчас об исторической науке. Но к этнологии всё сказанное относится сегодня вдесятеро сильнее. Нравится нам это или нет, но уже довольно давно миром правит национализм, вернее — множество разных национализмов. Наивысшим критерием легитимности государственно-политической власти сегодня в мире в целом принято считать соответствие государственно-политических характеристик характеристикам национальным. (При этом далеко не всегда и не везде нация понимается в современном «западном» смысле — как «нация-гражданство»: очень часто — и как «нация-этнос», то есть, есть некий господствующий народ, по отношению к которому все прочие народы занимают в государстве подчинённое положение, и т.п.; это — отдельная песня, очень долгая и невесёлая, которая выходит за рамки маленькой популярной статьи). Ну, например: государственные и национальные границы должны совпадать, власть и население государства, которым она правит, должны иметь одинаковую национальную принадлежность, и ряд других соответствий, без которых власть будет вынуждена постоянно наталкиваться на массовое недоверие и неприятие со стороны своих подданных, и бороться с переменным успехом с таким отношением. Полтысячи лет назад западным миром правила религиозная идея: в те времена такую же непристойную задачу обслуживания власти выполняла теология. Несколько десятилетий назад нашей страной правила идея классовой борьбы как движущей силы истории, и тогда таким же занятием — когда грязноватым, а когда и опасным, — была в СССР историческая наука. Сегодня же в головах большинства населения мира царят националистические подходы, лозунгами национальной справедливости и национальных интересов прикрывается большинство политических действий, — и поэтому постоянной политизации всё сильнее и сильнее подвергается этнология. Каждому из нас приходилось слышать или читать наукообразные и при этом совершенно идиотские рассуждения насчёт «особой роли» русского народа в мире, его «избранничества», необходимости привилегированного «особого статуса» для него в России, и прочую чушь в том же роде... Лично мне как-то довелось наткнуться в одном журнальчике на такое рассуждение: дескать, русские — древнейший народ на Земле, они были современниками динозавров и уже в те времена создали основы культуры и государственности, а потом дали эти основы всему остальному населению Земли, рассеяли их, и отсюда — название «Россия» («рас-сеять» — «Рас-сея» — «Россия»). Подобный бред не уникален: на него сейчас очень много где в мире есть спрос и заказ, выходит куча соответствующей литературы, от псевдонаучной до вовсе погромной. В одних таких писаниях доказывается, например, что осетинский народ — древнейший очаг культуры на Северном Кавказе, в других — археологический возраст чеченцев «удревняется» по меньшей мере на тысячелетие, в третьих — доказывается, что Адам говорил по-ингушски... «Новая историческая хронология» Фоменко и Носовского — это цветочки по сравнению с теми атаками, которым подвергается этнология со стороны современной политики.
Даже такой, казалось бы, далёкий от злобы дня сегодняшнего раздел этнологии, как история первобыта и первобытная антропология, может оказаться очень небезопасным. Знакомые с творчеством писателя Юрия Домбровского помнят, конечно же, его великолепный роман «Обезьяна приходит за своим черепом». Исследователь, нашедший череп древнейшего человека, спокойно и неторопливо занимается его изучением; дело происходит во Франции в 1920-е — начале 30-х годов. Он начинает публиковать в научной периодике результаты своих исследований, и его итоговая публикация именуется «История раннего палеолита в свете антропологии (к вопросу о единстве происхождения современных человеческих рас)». Книга имеет мировой успех, и в 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти в Германии, экземпляр её торжественно сжигается на площади в Берлине: понятно, что идея единства человечества — кость в горле для нацистов. Известие об этом её автор принимает как признание его научной честности и великую честь. А затем в немецкой научной периодике начинают появляться всё более настойчивые сомнения в его профессиональной добросовестности: дескать, не исключено, что почтенный герр профессор просто хорошенько поманипулировал над черепом человека современного типа. Он со всё нарастающим раздражением отвергает эти сомнения, так же открыто, тоже в научной периодике: его знают во всём мире, его научная репутация безупречна, для него нет ничего дороже честного имени учёного. Всё это происходит на фоне разгорающейся войны в Европе, которая вот-вот докатится и до Франции. В конце концов в очередной статье в немецком антропологическом журнале ему в издевательских тонах рекомендуют повысить свой научный уровень, изучив нацистскую расовую теорию. Прочитав это письмо и наконец выйдя из себя, он пишет и публикует большую работу, в которой не оставляет от этой теории камня на камне. После этого ему приходит из Германии маленькая посылка: кусок верёвки, свёрнутый в петлю, и короткая записка: «На ней вас повесит первый немецкий офицер, перешедший с нашими войсками через границу»...
Короче, современная этнология — штука очень неспокойная политически, об этом приходится не забывать. Когда я впервые это понял и прочувствовал, мне было очень неприятно, и, возможно, это повлияло на мой выбор более узкой научной специализации. Выбери я в качестве такой специализации русских или евреев, или практически любой из народов Кавказа, или какой-либо другой народ, уже «доросший» до политической стадии своего существования, — мне неизбежно пришлось бы заниматься и всеми вот такими вот дурно пахнущими аспектами, вернее — их анализом и борьбой с ними. Но мне хочется заниматься вещами более приятными и более научными, объективно существующими, а не распутыванием всяких дурацких и опасных мифов. Так что я выбрал себе в качестве специализации малочисленные народы Сибири и Севера. Они не только фантастически интересны как объект изучения. Кроме того, они всегда находились, по причине своей «отсталости», на «ДОполитической» стадии, и они вряд ли смогут когда-либо превратиться в достаточно мощную и агрессивную политическую силу — уже хотя бы из-за своей малочисленности. Но в целом, процесс политизации сегодня затрагивает в той или иной мере все народы, и ни одно на свете племя не в состоянии избежать его полностью.
Этнология и этнография. Вопрос об отношениях между этими науками — на редкость интересный и непростой.
Современная этнология, большей своей частью, выступает в таком качестве: вырабатывает способы систематизации, обобщения и истолкования этнографического материала. Таким образом, современная этнология даёт этнографии концептуальный, теоретический аппарат. Этнография же как таковая — наука в основном описательная, и этнология является её теорией. (Точнее, здесь должна идти речь о множестве разных теорий). Этнографические описательные материалы, собранные «в поле», – это для этнологии либо средство проверки её теоретических концепций, либо, чаще, средство их доказательства, некое информационное сырьё для объяснений и интерпретаций.
Интересно отметить, что в конце 1920-х гг. в советской этнографической науке возобладало отрицательное отношение к этнологии, хотя этнография и этнографы в те же самые годы пользовались в нашей стране огромным авторитетом. Это и понятно: советская власть нуждалась в профессиональной этнографической (как и хозяйственно-экономической, и социологической, пусть это название и не употреблялось тогда) экспертизе. Перед этнографами была поставлена вполне конкретная задача государственной важности — в кратчайшие сроки всесторонне обследовать «отсталые» народы бывшей Российской империи и дать власти рекомендации: как втащить их в коммунизм предельно быстро и с минимальными издержками. В первую очередь это касалось наиболее «отсталых» — коренного населения Сибири и Севера: не случайно именно в те годы существовал при руководстве страны влиятельный и всеми уважаемый Комитет Севера. Но вот этнологии повезло меньше. В 1929 г. на совещании этнографов был высказано мнение, ставшее официальной позицией: «Поскольку этнология претендует на звание отдельной от социологии дисциплины, она должна быть признана не чем иным, как буржуазным суррогатом обществоведения» [6]. Кстати, наша кафедра на истфаке МГУ именуется кафедрой этнологии уже давно, но вот в «вывеске» кафедрального стенда объявлений слова «кафедра этнографии» заменили на «кафедра этнологии» не то в 1999-м, не то в 2000-м. Никакого особо глубокого смысла в этом, думаю, нет, просто все у нас и так знают, чем одно отличается от другого, а стенд с прежним названием сохраняли «по старинке», из любви к традиции: он никому не мешал, пока не обветшал до неприличия.
Так вот, этнография собирает «в поле» конкретный фактический материал, отвечающий на вопрос «как?»: как у такого-то народа происходит то-то и то-то? Этнология же сочиняет объяснительные теории, претендует на то, чтобы дать с умным видом ответ на вопрос «почему?». Сочинив такую теорию, этнолог запускает руку в мешок с фактами, которые собрал «в поле» этнограф. Дальше возможны два варианта. Если этнолог относится к своей теории с достаточной научной чистоплотностью (а не как мать к своему ребёнку, которого она считает самым-самым уже на том только основании, что это её ребёнок), то он не станет эти факты как-то отбирать, а постарается вытащить их побольше и какие попадутся, и честно посмотреть, соответствует ли им его теория. Во втором же случае он выберет те факты, которые сами соответствуют его теории, и использует их для её доказательства, проще говоря — «подгонит решение под ответ», который ему заранее известен. Разумеется, вовсе не факт, что этот ответ — правильный: это он, этнолог, воображает, будто он правильный, а в действительности — это ещё проверять и проверять. Но как раз этого-то этнолог и не делает: этнографические факты для него — не средство проверки его теории, а средство её доказательства.
Теперь надо учесть, что в реальности этнограф и этнолог (и, кстати, антрополог тоже) — это, как правило, один и тот же человек, — и тогда делается понятно, какой теоретический разброд и пир субъективизма царит в современной этнологии. Оказываясь «в поле», исследователь всякий раз обязан забывать всё, чему его учили и даже до чего он сам когда-либо додумался, — чтобы увидеть не то, что ожидает и хочет увидеть, а то, что есть в действительности. Это невероятно сложно и, пожалуй, невозможно, хотя стремиться к этому необходимо, иначе грош цена такому «учёному». Не случайно в подготовке этнолога так важна философия, особенно такие её разделы, как теория познания, методология научного поиска и т.п.. Не случайно в современной этнологии существует великое множество научно-теоретических школ и направлений, всякого рода «измов»: эволюционизм, диффузионизм, социологическая школа, функционализм, психоаналитическая школа, структурализм, символическая антропология, школа исторической этнологии, этнопсихологическая школа, культурный релятивизм, конструктивизм, инструментализм, неоэволюционизм, постмодернистская школа… Ни одно из них не объясняет имеющиеся этнографические факты и наполовину, а никакой более-менее универсальной теории, чтобы она работала хотя бы в большинстве случаев, сегодня не существует. Так что вопрос «кто же из них брешет?» был бы по-детски наивным: одновременно все и никто, каждая школа видит колоссальный пласт фактов под своим углом зрения, а универсального и всеохватного взгляда — нет. Маловероятно, чтобы такой взгляд появился когда-либо в будущем: слишком пестра фактическая картина жизни разных народов, а отойти от неё подальше, чтобы отдельные мазки не мешали увидеть какие-то общие черты и мотивы, — некуда. Наверное, здесь следует говорить о некоем принципе взаимодополняемости: что не получается объяснить в рамках одной концепции, то можно попытаться объяснить, исходя из другой. К счастью, этнологи, принадлежащие к разным научным школам, как правило, сознают ограниченность своих теоретических позиций и вполне дружелюбно и плодотворно общаются между собой. Вообще, их на свете в целом не особо много. Где-то их побольше, как, скажем, в США, где-то поменьше — к примеру, у нас или в Японии, — но в целом их столько, что не будет большой ошибкой сказать: все друг друга знают и друг с другом дружат, хотя бы заочно, на расстоянии. Всякие политизированные фальсификаторы науки и погромщики сюда не относятся: речь идёт о честных учёных.
Следует оговориться, что сегодня в нашей стране особо резкой грани между этими науками — этнология/этнография/антропология, — не проводят. Разумеется, специалисты знают, чем одно отличается от другого, но сами же постоянно оговариваются, что граница — условна и размыта. Так что, разобрав подробно эти отличия, можно без всякого ущерба для смысла говорить о них всех вместе, «в одном флаконе», так что если далее в каком-то месте будет употребляться какое-то одно из этих названий, то предполагается, что оно может быть заменено любым из двух остальных.
Понятно, что исторически, ретроспективно этнология является изобретением чисто западным, европейским: вспомнить хотя бы те потребности и возможности, которые имели в своё время великие колониальные державы. Но вот вопрос: где есть этнология и этнологи сегодня, в наши дни? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: как и любая наука, всюду, где позволяют условия, в частности — финансирование. Ясно, что, к примеру, большинству государств Чёрной Африки, где не стихают кровавые и разорительные вооружённые конфликты, попросту не до этого, как и вообще не до науки. Ясно, что в сегодняшней России профессиональных этнологов, т.е. тех, кто, получив соответствующее образование, работает по нему, тоже не особо много: явно недостаточное финансирование подталкивает искать средства к существованию в иных сферах, так что этнология частенько вытесняется в область неоплачиваемого «хобби». Поставим вопрос иначе: во всех ли государствах мира, где этнология могла бы, по идее, безбедно существовать, она сегодня существует? До какого-то момента я, особо не задумываясь, безоговорочно отвечал себе на этот вопрос «да», — пока не довелось разговориться с однокурсницей-японкой. Случай уже сам по себе весьма забавный: настоящая японка из Токио, освоившая дома в совершенстве русский язык и приехавшая за тридевять земель в Россию — учиться на кафедре этнологии истфака МГУ; мы вместе, с разницей в пару часов, защищали наши дипломы. Разумеется (коллеги как-никак!), я поинтересовался, познакомившись: а по чему конкретному хочется специализироваться и далее этим заниматься? Оказывается, ислам и исламская культура: в современной Японии вообще идёт всплеск интереса к этой теме. А что, в университетах Японии невозможно по всему этому специализироваться, что приходится ехать так далеко? Ответ был для меня совершенно неожиданным. Оказывается, у них там этнография вроде как и существует, «в законе», но имеет совершенно иной смысл, чем на Западе или, к счастью, у нас. Под этим названием у них подразумевается, как она мне объяснила (как-то самому поинтересоваться и проверить — случая пока не представилось), изучение СВОЕЙ японской культуры, быта, домашней утвари, поведения и т.п. в минувшие времена. К примеру, научная реконструкция повседневной жизни самурая и его семьи в эпоху сёгуната Токугава. Короче, изучение «себя, любимых»: то, что у нас в МГУ изучается на кафедре отечественной истории соответствующего хронологического периода. А этнографии как науки, изучающей других, — у них в Японии вроде как и нет.
Или вот ещё в том же роде. В начале осени 2002-го я заходил в школьную управу ЦАО Москвы: меня интересовало, не нужен ли в какую-нибудь школу преподаватель экспериментального курса для старшеклассников «Народоведение», разработанного незадолго до того нашей кафедрой. И встретил я там одного человека, сотрудника, с которым мы проговорили часа три подряд: буквально с пеной у рта он доказывал мне, что народоведение и сама этнография — это изучение СВОЕЙ родной культуры, быта, повседневной жизни и тому подобного, — ровно того самого, что, по словам моей японской коллеги, изучается под вывеской этнографии у них в Японии. Я попытался было спорить, — вижу, не получается: не слышит и не хочет слышать. Этот разговор впечатлил меня настолько, что через несколько дней я специально пришёл туда же и спросил методиста округа: это официальная позиция высокого начальства или личное мнение моего собеседника? — оказалось, слава Богу, что личное мнение.
Но тенденция к тому, чтобы ограничивать рамки моей науки только изучением «себя, любимых» и утверждать, будто больше в эту науку ничего не входит, либо, в лучшем случае, что всё остальное в ней второстепенно, — такая тенденция никуда не делась: она есть, она, по ряду признаков, в последние годы укрепляется в нашей стране, и она совсем не безобидна. Во-первых, это приводит к путанице и подмене, к насилию над наукой: как если бы ограничить всю физику только механикой, а всё остальное — термодинамику, электродинамику, оптику, ядерную физику…, — выкинуть как не заслуживающее внимания. Во-вторых, это есть результат той самой политизации моей науки, о которой уже было много сказано: на это есть заказ сверху, да и не только сверху, но и «сбоку» — от тех, кто, сам не являясь властью, ставит «себя, любимых» — свой народ — в центр мироздания.
Есть такая закономерность: народ, который относится к самому себе без истерики, со спокойной уверенностью, — такой народ может позволить себе заниматься кем угодно, кроме себя, — и наоборот. Американские этнологи занимаются любым народом мира, наши — в принципе, тоже; правда, их поле деятельности сильно сужено по сравнению с американцами, но в результате скудного финансирования, а не по каким-то идейным соображениям. Но вот найти, скажем, дагестанского этнолога, занимающегося кем-то другим, кроме народов Северного Кавказа (чаще — конкретно своего народа), или этнолога таджикского, сфера научных интересов которого располагается за пределами Средней Азии, — очень непросто. Такое впечатление, что этнологу, который живёт там и принадлежит к местному народу, просто ничем другим, кроме изучения собственного народа (или, хуже, сочинения мифов о нём), заниматься невозможно. Существует даже специальный термин — «индигенность»: индигенный этнолог — это этнолог, занимающийся изучением того самого народа, к которому он принадлежит. Хорошо это или плохо? Уверен, что плохо, и главная причина этого — в том, что невозможно изучать своих родных объективно, честно и без предвзятости: если даже ты сам на такое способен, то они тебе не позволят. Этнология/этнография/антропология — это когда русский занимается арабами, араб — китайцами, китаец — африканцами, африканец — евреями, еврей — армянами, армянин — американскими индейцами и т.д., можно продолжать до бесконечности. И вот самое точное, быть может, определение моей науки: этнология/этнография/антропология – это наука О ДРУГОМ И О ДРУГИХ, обо всех тех, кто не похож на тебя.
Это и есть то самое, за что я её люблю и почему мне, надеюсь, никогда не надоест ею заниматься.
______________________
[1] Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия на Берег Маклая. — М., 2001. — С. 33.
[2] Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. — СПб., 1894. — С. 370.
[3] Keesing R.M., Keesing F.M. New Perspectives in Cultural Anthropology. — New York, 1971. — P. 357.
[4] История дипломатии. — М., 1941. — Т. 1. — С. 98.
[5] В осн. по: Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. — М., 1997. — Сс. 7 — 12.
[6] Этнография и смежные дисциплины. — М., 1994. — С. 68.